Гиппократ о сердце и сосудах

История кардиологии, как и большей части классических медицинских дисциплин, началась довольно давно. Однако долгое время работа сердца и сосудов была самой настоящей загадкой для ученых и врачей, разгадывание которой продвигалось довольно медленно и аккуратно. Ведь цена ошибок была крайне высока. Как именно шло развитие науки и какие трудности встречались на ее пути — в материале АиФ.ru.

На заре времен
Несмотря на то, что сердце — орган сложный, хрупкий и крайне важный, попытки определить, как оно работает и за счет чего функционирует, были нередкими и предпринимались довольно давно. Так, например, первое документальное описание работы сердца и сосудов, известное на сегодняшний день, датируется XVII веком до н.э. Из древнеегипетского папируса Эберса можно узнать, что «начало тайн — знание хода сердца, от которого идут все сосуды ко всем членам, ибо всякий врач, всякий жрец богини Сохмет, всякий заклинатель, касаясь головы, затылка, рук, ладони, ног, везде касается сердца: от него направлены сосуды к каждому члену…». Невероятно, но древние люди уже имели определенное представление о работе одной из самых загадочных систем организма.
Еще одно подтверждение значимости сердца можно обнаружить в еще одном папирусе, датированном V веком до н.э. Здесь его описывает Гиппократ. И здесь же он впервые предлагает считать его мышечным органом. Причем, исходя из документа, можно понять, что уже тогда было сформировано представление о желудочках сердца и крупных сосудах.
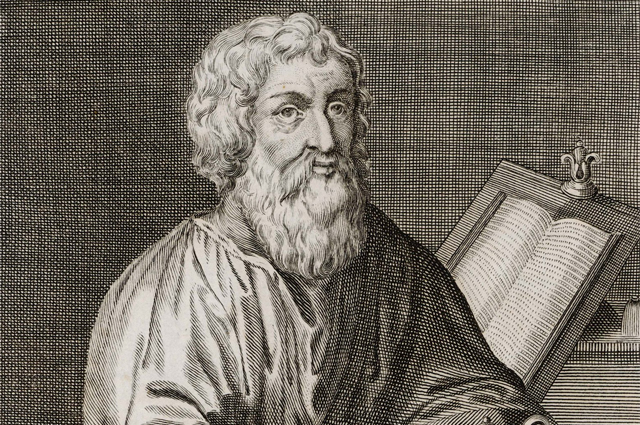
Древнегреческий целитель Гиппократ. Фото: www.globallookpress.com
Однако прорывом в развитии кардиологии нередко называют труды Галена. Римский врач во II веке н.э. создал поистине революционное учение, которое достаточно долго будоражило умы научного содружества. Правда, современные ученые выяснили, что в его трудах того времени очень много ошибок и неточностей, что, тем не менее, нисколько не умаляет его открытий.
Гален был уверен, что центром кровеносной системы является… печень. Он полагал, что образующаяся в печени кровь разносится по телу, питает его и целиком им поглощается, не возвращаясь обратно. В печени же образуется следующая партия крови. Хотя человечество сегодня знает, что эта схема — грубейшая ошибка, она существовала как единственно верная до XVII века, пока ее не опровергли.
Гален, не имея представления о системе кровообращения, считал предназначением сердца «притягивание» крови из легких вместе с воздухом. И поэтому он никак не мог объяснить происходящие в теле процессы и приписывал их нематериальным силам.

Эпоха Возрождения сердца
На долгие века из-за отсутствия необходимых методик, инструментов и научных возможностей кардиология была забыта. Использовались исключительно теории древности. Однако так долго продолжаться не могло, ведь медики в Эпоху Возрождения уже начали проявлять более активный исследовательский интерес и начали в научных целях использовать вскрытие умерших. Таким образом ученые получили более точное представление об анатомии сердечной мышцы и даже смогли ее изобразить.
Так, например, Леонардо да Винчи, занимаясь препарированием и будучи гениальным художником, смог отобразить своими рисунками увиденное строение сердца и клапаны.
Параллельно с да Винчи изучением сердца занимался и Андреас Везалий — бельгийский врач и ученый. Исследовательский интерес его был так велик, что тела, необходимые для исследований, ему приходилось… добывать тайно на кладбище. В тот период святой Церковью не приветствовались никакие опыты в сфере медицины. В результате своих рискованных изысканий Везалий определил, что сердце имеет артерии и вены. Основной его идеей было, что вены несут кровь от печени к периферии, а артерии — от сердца (такая кровь, считал ученый, насыщена «жизненным духом»). При этом он не имел ни малейшего понятия о микроциркуляторном русле, вследствие чего никак не мог объяснить, как заканчиваются самые мелкие сосуды.

Андреас Везалий. Фото: www.globallookpress.com
Настоящим прорывом в истории изучения сердца стало открытие английского ученого Гарвея — он смог обнаружить существование кругов кровообращения. Эксперимент, который привел его к настоящему прорыву, был достаточно несложен и выдержан в духе того времени…

Гарвей заманил со двора пирожком дворовую собаку. Молодой человек перевязал ей две лапы шнурком. Через некоторое время они стали отекать. Тогда он взял скальпель и сделал разрез на одной лапе в нижней части от шнурка — оттуда пошла кровь. На другой же лапе на уровне выше шнурка из разреза кровь не пошла. И это стало самым наглядным доказательством того, что сердце — это насос, который толкает кровь в определенном направлении, когда кровь по артериям течет от сердца, а по венам возвращается обратно. Кроме того, он смог доказать, что есть два круга кровообращения — большой и малый. В 1628 году Гарвей опубликовал трактат «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», в предисловии к которому он написал: «То, что я излагаю так ново, что я боюсь, не будут ли люди моими врагами, ибо раз принятые предрассудки и учения глубоко укореняются во всех». Врач смог доказать, что «сердце ритмически бьется до тех пор, пока в организме теплится жизнь». После каждого сокращения наступает небольшая пауза, когда этот орган отдыхает. Однако ему так и не поддалось определение того, как именно соединяются между собой артерии и вены. В системе кровообращения, обнаруженной Гарвеем, не хватало важного звена — капилляров. Их он не смог найти, т.к. не использовал микроскоп.
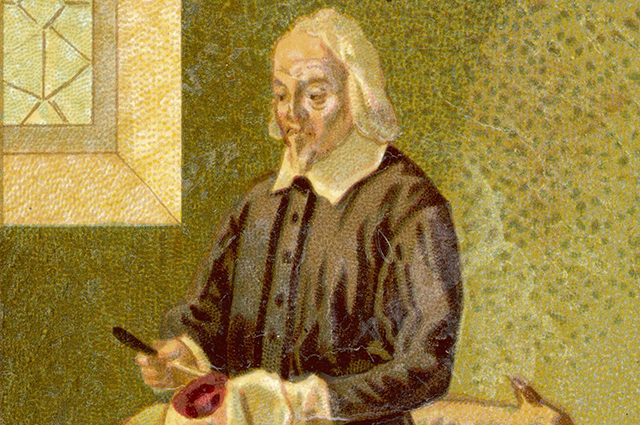
Уильям Гарвей. Фото: www.globallookpress.com
Капиллярные изыскания
Дополнил его изыскания итальянский врач Марчелло Мальпиги. Изначально он участвовал в собраниях анатомов в доме профессора Борели, где братья по медицине не только проводили конференции и дискуссии, но и препарировали животных. На одном из таких собраний Мальпиги вскрыл собаку и продемонстрировал присутствующим строение сердца. В таком научном кружке принимал участие и герцог Фердинанд, который дал идею… вскрыть еще живое животное — так все смогли увидеть процесс сокращения главной мышцы организма. При сжатии предсердия резкая волна пробегала по желудочку, приподнимая его тупой конец. Толстая аорта также показывала определенные сокращения. Мальпиги в этот момент комментировал все движения, происходившие в сердце собаки. Но когда одна из присутствовавших дам спросила его: «А как кровь попадает в вены?», он не нашелся, что ей ответить.
Дальше он постарался уделить максимум времени решению этого вопроса. Но все было безрезультатно. Пока к делу он не подключил микроскоп. При 180-кратном увеличении он наконец смог найти то, что искал. Разглядывая препарат легких лягушки, он заметил пузырьки воздуха, окруженные пленкой, и мелкие кровеносные сосуды, а также целую сеть капилляров, которые соединяли артерии с венами. В 1661 году он впервые опубликовал результаты своих наблюдений и дал описание капиллярных сосудов.
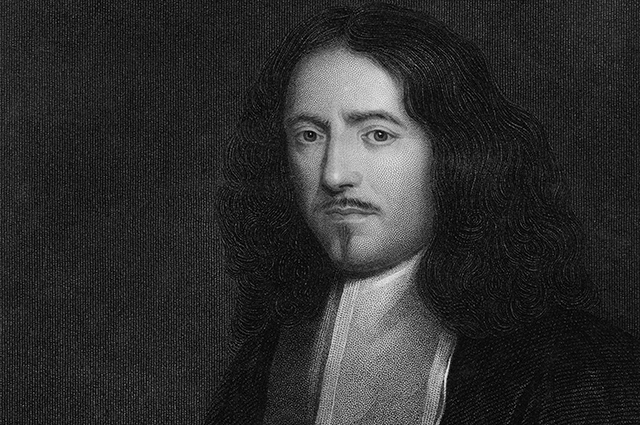
Марчелло Мальпиги. Фото: www.globallookpress.com
Закончил исследования такого типа анатом Александр Шумлянский, который доказал, что артериальные капилляры переходят в некие «промежуточные пространства» и что сосуды на всем протяжении замкнуты.

Дальнейшие открытия
Далее кардиология начала развиваться довольно быстро. Так, в 1845 году были открыты волокна в миокарде, по которым распространялось возбуждение. В 1893 году обнаружился предсердно-желудочковый пучок. 1906 год стал годом открытия атриовентикулярного узла, а 1907 — синусово-предсердного узла.
Сегодня кардиологи имеют огромное количество инструментов, методик и возможностей, чтобы тщательно разбираться в малейших деталях и нюансах сердечной мышцы. Однако до сих пор основополагающими в данной медицинской дисциплине считаются те самые фундаментальные и кропотливые открытия прошлого, которые были сделаны ценой невероятных усилий и стали возможными только благодаря природному любопытству ряда исследователей.
Источник
Кровь в нашем организме движется по замкнутому кругу.
Движение крови по кругу: сердце – артерии – капилляры – вены – сердце
Причем таких кругов два: два круга кровообращения.
Два круга кровообращения
Кто не знает об этом сегодня? Ведь об этом рассказывают еще в школе. И истина эта так привычна и очевидна для нас!
Но знаете ли вы, что постепенное и упорное продвижение до полного открытия этой истины продолжалось целых два тысячелетия! Знаете ли вы о том, что величайшие ученые и врачи добывали крупицы знаний о кровообращении ценой упорного труда, ценой многочисленных разочарований и ошибок, ценой непонимания, травли и гонения. И даже ценой жизни. И все только для того, чтобы, в конце концов, познать ее — великую истину!
Я хочу рассказать вам эту интересную и драматическую историю: историю познания только одной великой тайны нашего организма — тайны движения крови.
О том, что два круга кровообращения открыл великий английский медик и ученый Уильям Гарвей, тоже знают многие.
Уильям Гарвей
Но это был уже итог. Итог длительного, тяжелого и самоотверженного труда великих ученых, которые постепенно и упорно продвигались вперед, к открытию тайны, к познанию истины. Было бы несправедливо забыть их имена и не отдать им должного и заслуженного уважения!
История открытия двух кругов кровообращения началась еще в V веке до нашей эры. Первые шаги к познанию законов кровообращения сделал великий Гиппократ.
Гиппократ
Занимаясь вскрытием трупов, он видел и изучал сердце и сосуды. В одних сосудах находилась кровь. Это были вены. Артерии же были пусты. Гиппократ создал свою, первую теорию кровообращения. Согласно ей кровь передвигалась только по венам. Артерии, по мнению Гиппократа, были предназначены для передвижения воздуха.
И пусть эта теория была ошибочна, но она уже тогда поведала ученым о наличии в организме сердца и сосудов, по которым передвигается кровь.
Этой теорией руководствовались медики вплоть до II века нашей эры. И только во II веке нашей эры великий ученый и врач Клавдий Гален посмел возразить великому Гиппократу и выдвинуть и доказать свою теорию кровообращения.
Клавдий Галлен
Его теория была огромным шагом вперед. Ибо он утверждал, что кровь находится, как в венах, так и в артериях. Но, по его мнению, венозная и артериальная кровь — жидкости совершенно разные. Вены зарождаются в печени и содержат “грубую” кровь. Она питает весь организм. Артерии зарождаются в сердце. Они распространяют “движение, тепло и жизнь”. Эти два вида крови смешиваются. Смешение происходит в сердце через отверстие в межжелудочковой перегородке.
Конечно, эта теория еще очень далека от истины, но все же это огромный шаг к ней!
Теория Галена просуществовала вплоть до XVI века нашей эры.
И только в 1543 году великий врач и анатом Андреас Везалий, вскрыв множество трупов, доказал, что в межжелудочковой перегородке у здорового человека нет отверстия.
Андреас Везалий
За вскрытие трупов Везалий был приговорен инквизицией к смертной казни. Он избежал смерти только благодаря покровительству испанского короля Филиппа II.
В 1553 году на сцену выходит испанский врач Мигель Сервет. Он написал труд, в котором впервые описал малый круг кровообращения. Это было великое открытие! За это гениальный ученый подвергся самым ужасным гонениям. За свои еретические взгляды он был сожжен на костре инквизиции.
Мигель Сервет
Вскоре, в 1593 году еще один ученый — Андреа Чезальпино — описал малый круг кровообращения. Кроме того он осознал и доказал, что сердце — это центр и двигатель кровообращения. От безжалостного костра инквизиции его избавило только личное расположение папы Климентия VIII.
Андреа Чезальпино
И вот, наконец, в 1618 году великий Гарвей, опираясь на все накопленные знания, сумел постигнуть истину. Он описал уже два круга, по которым движется кровь. Мало того, он правильно предугадал предназначение каждого из них. Он расставил все точки над “і”:
— распознал предназначение сердца
— предопределил функции артерий
— установил роль вен
Осталась только одна маленькая загадка: как, где и каким образом артериальная кровь превращается в кровь венозную?
А вот эту загадку разгадал еще один великий ученый — Марчелло Мальпиги. Именно он в 1661 году открыл капилляры.
Марчелло Мальпиги
И все стало на свои места! Артериальное русло соединилось с руслом венозным. Сомкнулись два круга кровообращения. Сложился пазл, и окончательно оформилась логичная и гармоничная теория кровообращения.
Если вы хотите разобраться в том, что такое два круга кровообращения, вот вам ссылка на статью с рисунками, схемами и видео: “Два круга кровообращения”.
Все статьи о крови и кровообращении
Источник
С самых древних времен и до наших дней, с той поры, как появились первые упоминания о медицине, не было более яркой фигуры, чем фигура человека, жившего в V веке до христианской эры. Образ его никогда не тускнел, хотя на долгое время и выпадал из поля зрения врачей. Но именно в новейшую эпоху этот человек — Гиппократ — предстает в истинном свете его исторического значения; именно новейшая медицина постигла ценность, которую представляет собой учение Гиппократа и его школы даже в наше время.
Гиппократ жил в ту эпоху, когда в Греции происходили большие изменения. Опасность со стороны Персии почти миновала, крупное войско противника было уничтожено, персидский царь Ксеркс возвратился со своим флотом к берегам Азии. Но Греция не могла вкушать радостей победы — этого не допускало старинное соперничество между Южной Спартой и приморским городом Афинами. Тем не менее афиняне наперекор всем трудностям показали свое величие. Они заново отстроили разрушенный войной город, окружили его крепостной стеной, и после того как Перикл способствовал приходу к власти демократии, город достиг во всех областях культуры удивительных успехов. Духовное господство Афин в то время было неоспоримым. Ни в одном городе Греции не было такого количества выдающихся мужей: в Афинах жили самые знаменитые историографы, блестящие драматурги, великие философы и те люди искусства — художники, скульпторы и зодчие, — которые прилагали все силы к тому, чтобы украсить город великолепными постройками и художественными произведениями.

Гиппократ (459-377г. до н.э.)
Казалось, наступило счастливое время, но прежняя зависть и неприязнь Спарты вспыхнули вновь и началась Пелопонесская война. Затем между соперниками был заключен союз, в который по-настоящему не верила ни одна из сторон. Затем снова вспыхнула война и, наконец, деспотия Спарты распространилась на всю Грецию, в том числе и на Афины. Но Спарта не была способна утвердиться в этом господствующем положении. Старые враги Греции почувствовали, что полуостров ослабел, и развернулись такие события, которые привели к гибели греческой свободы.
Гиппократ частично связал свою судьбу с судьбой Греции, прежде всего Афин, частично шел своим собственным путем, чтобы выполнить миссию, на которую его вдохновлял талант, миссию, сделавшую его величайшим врачом в мировой истории.
Египетская наука врачевания проникла в Грецию еще задолго до Гиппократа. Местный культ богов преобразовал ее в особую систему, в центре которой стоял бог Асклепий (Эскулап). О нем говорили, что он приносит больным исцеление и передает свои знания жрецам- лекарям, служившим хранителями посвященных Асклепию храмов. Его культ распространился по всему греческому миру. Один из старейших и знаменитейших храмов Асклепия стоял на острове Кос. Здесь в 459 г. до н. э. родился Гиппократ.
К этому времени уже началось разделение между врачеванием и жречеством. Жрец-врач, обладавший двойной монополией, был оттеснен «чистым» врачом; для прогресса медицинской науки открывались новые пути. Для воспитания умелых врачей было полезно, что профессия врача, как и почти все другие профессии, превратились в наследственную, переходя в семье от отца к сыну. Благодаря этому из поколения в поколение передавались не только традиции и этическая атмосфера этой профессии, но и знания, которые часто были тайными. Отец обычно очень рано начинал учить сына. Так случилось и с Гиппократом, и поэтому понятно, почему уже двадцати лет от роду он стал знаменитостью.
В возрасте, в котором современный молодой человек лишь приступает к своему образованию, Гиппократ не только перенял опыт деда и отца и самостоятельно лечил больных, но успел побывать в Египте, где врачу в то время много чему можно было поучиться. Вскоре после того как Гиппократ был посвящен в жрецы — такое посвящение в то время еще было обязательным для занятия врачебным ремеслом, — он покинул родину и поехал в страну на Ниле, где его радушно приняли верховные жрецы. Вероятно, он осознал в Египте, что необходимо было положить конец духу кастовости, столь сильно господствовавшему как в Египте, так и в Греции, ибо, помимо сословного высокомерия, преисполнявшего врачей-жрецов, кастовая тайна препятствовала правильному образованию и тем самым прогрессу медицины. Но в Египте он увидел также гибельную для дела чрезмерную специализацию: каждый врач имел право лечить только одну болезнь, например, катарр дыхательного горла; это как раз противоречило тому, что Гиппократ вкладывал в понятия медицины и врачебной деятельности. Но несмотря на это, он выучился многому. Особенно многого египтяне достигли в диететике, и знание этой науки Гиппократ увез с собой на родину, как и многое из того, что он впоследствии объединил под характерным названием «факты, почерпнутые из опыта».
Возвратившись из Египта, Гиппократ женился на двадцатилетней девушке и приступил, наконец, к широкой деятельности врача и учителя, преисполненный передовыми идеями и воодушевленный тем новым, что он видел. «Жизнь коротка, путь к искусству длителен, случай мимолетен, опыт обманчив, вывод труден. Недостаточно, чтобы врач делал все, что положено; сам больной и его окружающее должны стремиться к той же цели». Вот язык, которым он говорил, и это был новый язык.
Несколько лет Гиппократ оставался на Косе, где создал свою школу. Потом он отправился в Фессалию и поселился в Ларисе, где жил до тех пор, пока чума, разразившаяся в Афинах в 429 году до н. э., не поставила перед ним новой задачи. С возвращением Гиппократа к населению Афин пришла надежда и желание исцелиться. Он принял очень действенные меры. На границах города и на зачумленных улицах были разложены костры: огонь боролся с миазмами, с зародышами болезни, с ядом разлагающихся трупов, которые, как догадывался Г иппократ, способствовали распространению болезни. Бороться такими способами с распространением заразы было деянием поистине гениальным. «Все великие явления производятся воздухом, — говорил он. — Воздух дает жизнь и переносит болезни».
Врачебное искусство Гиппократа, как это всегда было в древности, состояло почти исключительно в практическом врачевании и предупреждении болезней, и тем не менее он гораздо больше, чем другие, стремился понять строение и функции человеческого тела. По книгам, приписываемым Гиппократу и его ученикам, мы можем создать себе представление о том, что в то время знали о человеческом теле или же полагали, что знают.
Было это много или мало? В простой форме ответ на этот вопрос дать нельзя. Это было столь много, насколько точно можно было познать человеческое тело в ту эпоху, в которую занимались почти исключительно вскрытием Животных. Но все же это было больше того, что можно было усвоить только путем вскрытия животных. В трудах Гиппократа довольно подробно описаны черепные кости. Из позвонков не упоминается первый шейный позвонок, названный позднее атлантом, потому что он поддерживает голову. Второй позвонок, единственный, имеющий зубовидный отросток и образующий вместе с атлантом один сустав, описан подробнее. В одном месте указано, что общее количество позвонков 18, в другом месте— что их 22 (ныне каждый медик знает, что позвонков 33 или 34, в копчике их бывает 4 или 5). Более точно указано количество ребер: имеется семь истинных и несколько ложных ребер. И теперь семь верхних ребер, идущих к грудине и связанных с ней, называются «истинными» ребрами в отличие от пяти нижних, не сочленяющихся с грудиной.
Хорошо был описан ряд мышц под определенным названием. Для обозначения мышц часто употребляется слово «мясо», но столь же часто говорится о «мышцах», «мускулах» — обозначения, идущие от латинского musculus (мышца — маленькая мышь). Это наименование было выбрано потому, что многие мышцы, особенно на верхней части руки, при напряжении напоминают двигающуюся под кожей мышь. Разницы между сухожилиями и нервами анатомия Гиппократа не знает.
Желудок и кишечник рассматриваются как две полости одного и того же органа; в кишечнике некоторые части дифференцируются. Разумеется, часто упоминается печень—ведь она была хорошо известна по жертвоприношениям; наряду с селезенкой печень считалась главным источником крови. Из желез Гиппократом и его учениками было замечено только несколько небольших лимфатических желез и, конечно, молочные железы. Железы рассматривались как вместилище влаги, носители важной для нормальной и здоровой жизни функции. Головной мозг они также принимали за железу.
Форму сердца Гиппократ сравнивал с пирамидой. В околосердечной сумке, в которую сердце вложено, как в мешок, находится, говорил он, некоторое количество жидкости, необходимое для охлаждения жаркого сердца (на самом деле там есть незначительное количество влаги, препятствующей возникновению трения между сердцем и околосердечной сумкой). Имеется, по Гиппократу, две сердечные камеры, правая и левая, которые, как он ошибочно утверждает, между собой связаны, а также две передние полости, или предкамеры, с углублениями, которые он называет сердечным ухом; итак, есть правое и левое сердечное ухо, но ни одно из них не служит слуху, шутливо добавляет Гиппократ или же один из его учеников. По воззрениям школы Гиппократа, кровь вытекает из своих источников — печени и селезенки (но каким образом — подробно не указывается) — в правое сердце; кровь сначала холодна, однако нагревается в левой сердечной камере, где накапливается теплота. Сердце затем гонит кровь вперед, по сосудам.
Голос, говорится у Гиппократа, образуется в дыхательном горле выпускаемым воздухом. Если человек, которому надоела жизнь, перережет себе горло, он не может больше говорить; если же при этом сблизить края раны, голос возвращается. Вдыхаемый воздух служит для того, чтобы охлаждать сердце, — это было старое, постоянно повторяющееся мнение о роли дыхания. Замечания об .анатомии мужских мочеполовых органов содержат кое-что верное, но то, что сказано о женских, почерпнуто прежде всего из анатомии животных. Забавное для нас представление, что молоко направляется в грудь потому, что увеличившаяся матка давит на брюшной сальник и выжимает оттуда молоко наверх, возникло явно из сходства молока с хилусом, который принимали за материнское молоко (хилус — смесь кишечного сока с обращенной в жидкое состояние пищей, заполняющей лимфатические сосуды тонких кишок).
О глазе Гиппократ располагал довольно удовлетворительными познаниями. Исследование глаза животного, который по своей структуре сходен с человеческим глазом, не представляло затруднений. Гиппократ учил, что в человеческом глазе есть три оболочки: «белая оболочка» (т. е. белковая оболочка вместе с роговой), «тонкая оболочка», в которой различается «цветная оболочка» (т. е. радужная, или ирис), и «паутинообразная оболочка», которую и ныне еще называют arachnoidea. Не упоминает Гиппократ о внутреннем слое — сетчатке с ее клетками, дающими возможность видеть. Внутренность глаза, говорит он, наполнена жидкостью (мы называем ее стекловидным телом), которая подается от «большой железы» — головного мозга. Знал ли он о хрусталике, из его трудов не явствует, но можно предполагать, что знал. Он знал о связи между глазом и головным мозгом, но не понимал значения этого «твердого канала», под которым надо разуметь зрительный нерв. В «трубках», ведущих к головному мозгу, по мнению Гиппократа, содержится «зрительная жидкость»; ее присутствием он и объясняет процесс зрения. Способность слушать, полагает он, происходит от того, что костяная часть уха, которую следует отличать от мягкой части, передает звук. О наличии внутреннего уха, которое и является собственно органом чувства, в то время уже знали, однако не знали его функции.
Представления Гиппократа о жизни основываются на четырех «стихиях» — огне, воде, воздухе и земле, а также на свойствах — теплый, холодный, влажный, сухой. Им соответствует четыре основных сока живого тела: кровь (по-латыни — сангвис), слизь (по-гречески — флегма), желтая желчь (по-гречески — холе), черная желчь (по-гречески — мелос — черный, холе — желчь). Желтая желчь выходит из печени, черная — из селезенки. Если четыре стихии смешаны правильно, то человек здоров. Если преобладает одно из веществ, это ведет к болезни, ибо тело подобно кругу — без начала и без конца, и каждая часть тела тесно связана со всеми остальными. Душевное состояние человека также определяется различным смешением основных соков; отсюда четыре темперамента — сангвинический, флегматический, холерический и меланхолический. Жизнь покоится на тепле, теплота вложена в человеческое тело и питается воздухом, приходящим извне. Соки восполняются питанием. А над всем господствует великая и мощная жизненная сила, которую Гиппократ называет природой.
Учение Гиппократа о соках было первой крупной теорией в медицине, долго владевшей умами. Со временем она была вытеснена другими теориями, но в наши дни снова приобрела значение, хотя, разумеется, и не в том виде, как была предложена Гиппократом, а измененная и покоящаяся на новых, прочных основах, чему мы обязаны достижениям науки, в первую очередь учению о гормонах.
Гиппократ только говорил о соках, большего он знать не мог. Но то, что именно соки определяют суть человеческого организма, и правильное сочетание их означает здоровье, а неправильное — болезнь, — это была великолепная идея, которой мы можем восхищаться еще и сегодня.
Гиппократ умер предположительно в 377 г. до н. э., далеко от родины, в Фессалии. Столетия спустя его могилу все еще показывали приезжим чужестранцам. Легенда рассказывает, что около нее поселился рой диких пчел, мед которых исцелял детские болезни.
Похожие материалы:
Аристотель
Герофил
Эразистрат
Руф
Источник
