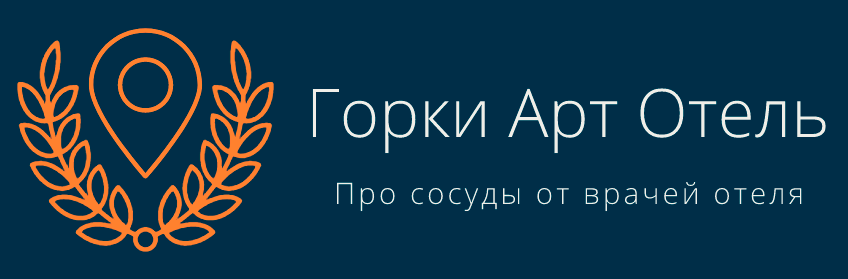Огонь мерцающий в сосуде полякова читать

Она ничего не знала обо мне, а я о ней, хотя она была единственным близким мне человеком. Парадокс, над которым я предпочла не размышлять. У меня не имелось желания рассказывать о себе, и я допускала, что то же самое нежелание свойственно моей нечаянной подруге. О своем житье‑бытье во время наших встреч я помалкивала, не из необходимости скрывать какие‑то тайны, а просто не было ни тайн, ни каких‑либо заметных событий в жизни. Рядом с совсем незнакомым мне человеком я могла быть кем угодно: удачливой бизнесвумен или бедной студенткой, и допускала, что Генриетта тоже не прочь пофантазировать.
Наши встречи напоминали общение в соцсетях: отсутствие общих знакомых и общих воспоминаний (я знала, что Генриетта недавно приехала в этот город, и, кажется, издалека) гарантировало анонимность, совсем как в Интернете, где человека из плоти и крови заменяет ник и фото какой‑нибудь красотки.
Мы могли придумать себе любую жизнь, и втайне нас обеих влекло к этому. Меня‑то уж точно. Но что‑то удерживало нас от беззастенчивого вранья, конечно, вовсе не желание быть разоблаченными, прервать эту дружбу было легче легкого, и стыдиться своих фантазий вряд ли бы пришлось. Причина, скорее, крылась в другом: я чувствовала, что моя подруга глубоко несчастна, хоть и не желала признаваться в этом, и какие бы радужные картины она ни рисовала, я бы ей, наверное, не поверила. Несчастливость таилась в глубине ее красивых васильковых глаз, пряталась в едва заметных складочках возле губ… Я не знала, как должна выглядеть счастливица, но несчастье распознавала сразу. Может, и меня удерживало от фантазий опасение, что Генриетта читает в моих глазах, как я в ее, а может, боялась, что мое выдуманное счастье станет для подруги неким упреком в собственной несостоятельности. В общем, откровенности мы не желали, а от вранья воздерживались, оттого о своем прошлом и настоящем предпочитали молчать. И через месяц после знакомства я только и знала, что ее зовут Генриетта. Где она живет и как проводит время, когда мы не пьем кофе в крохотной кофейне на набережной и не бродим вдоль реки в толпе туристов, оставалось лишь гадать. Несколько раз я собиралась спросить ее об этом, но задавать вопросы друг другу, точно по молчаливому уговору, мы избегали. Почему‑то я решила, что ее жизнь сродни моей. Возьмись я рассказать свою историю Генриетте, и сама бы поразилась ее абсолютной обыденности. История человека, который плывет по течению, с грустью наблюдая, как его относит все дальше и дальше от вожделенных берегов. Банальная история, лишенная возможности когда‑нибудь стать другой. «Из моей жизни приличного сюжета не получится», – с тоской думала я временами. Кому интересен безвольный герой? Слабым утешением служил тот факт, что таких, как я, тысячи. А многие из тех, кого я встречала во время своих прогулок, вполне могли бы мне позавидовать. То есть не мне, конечно, а внешнему благополучию моей жизни. Муж очень богат, в кошельке у меня две банковские карточки, золотая и платиновая, и я понятия не имею, сколько денег на них. Я не успеваю истратить и малой толики, а счет уже пополняется.
Наверное, по этой причине я терпеть не могу глянцевые журналы, с каждой страницы которых то шепчут, то вопят разодетые дамочки: у тебя может быть все, если на это есть деньги. У меня нет ничего, кроме денег. Впрочем, деньги вовсе не мои, они принадлежат мужу, следовательно, будет правильнее сказать: у меня нет ничего. Еще совсем недавно эта фраза вызывала гнетущую тоску, и вдруг пришло безразличие…
Первые семнадцать лет моей жизни оказались ничем не примечательными, что вряд ли должно удивлять. Губернский город, обычная семья. Мама – воспитатель в детском саду, папа, кажется, работал на заводе. Говорю «кажется», потому что своего отца совсем не помню, родители развелись, когда мне еще не было и трех лет. Папа сильно пил, мама, промучившись с ним лет пятнадцать, наконец сказала: «Хватит».
Источник
О книге
Татьяна Полякова
Огонь, мерцающий в сосуде
Она ничего не знала обо мне, а я о ней, хотя она была единственным близким мне человеком. Парадокс, над которым я предпочла не размышлять. У меня не имелось желания рассказывать о себе, и я допускала, что то же самое нежелание свойственно моей нечаянной подруге. О своем житье-бытье во время наших встреч я помалкивала, не из необходимости скрывать какие-то тайны, а просто не было ни тайн, ни каких-либо заметных событий в жизни. Рядом с совсем незнакомым мне человеком я могла быть кем угодно: удачливой бизнесвумен или бедной студенткой, и допускала, что Генриетта тоже не прочь пофантазировать.
Наши встречи напоминали общение в соцсетях: отсутствие общих знакомых и общих воспоминаний (я знала, что Генриетта недавно приехала в этот город, и, кажется, издалека) гарантировало анонимность, совсем как в Интернете, где человека из плоти и крови заменяет ник и фото какой-нибудь красотки.
Мы могли придумать себе любую жизнь, и втайне нас обеих влекло к этому. Меня-то уж точно. Но что-то удерживало нас от беззастенчивого вранья, конечно, вовсе не желание быть разоблаченными, прервать эту дружбу было легче легкого, и стыдиться своих фантазий вряд ли бы пришлось. Причина, скорее, крылась в другом: я чувствовала, что моя подруга глубоко несчастна, хоть и не желала признаваться в этом, и какие бы радужные картины она ни рисовала, я бы ей, наверное, не поверила. Несчастливость таилась в глубине ее красивых васильковых глаз, пряталась в едва заметных складочках возле губ… Я не знала, как должна выглядеть счастливица, но несчастье распознавала сразу. Может, и меня удерживало от фантазий опасение, что Генриетта читает в моих глазах, как я в ее, а может, боялась, что мое выдуманное счастье станет для подруги неким упреком в собственной несостоятельности. В общем, откровенности мы не желали, а от вранья воздерживались, оттого о своем прошлом и настоящем предпочитали молчать. И через месяц после знакомства я только и знала, что ее зовут Генриетта. Где она живет и как проводит время, когда мы не пьем кофе в крохотной кофейне на набережной и не бродим вдоль реки в толпе туристов, оставалось лишь гадать. Несколько раз я собиралась спросить ее об этом, но задавать вопросы друг другу, точно по молчаливому уговору, мы избегали. Почему-то я решила, что ее жизнь сродни моей. Возьмись я рассказать свою историю Генриетте, и сама бы поразилась ее абсолютной обыденности. История человека, который плывет по течению, с грустью наблюдая, как его относит все дальше и дальше от вожделенных берегов. Банальная история, лишенная возможности когда-нибудь стать другой. «Из моей жизни приличного сюжета не получится», – с тоской думала я временами. Кому интересен безвольный герой? Слабым утешением служил тот факт, что таких, как я, тысячи. А многие из тех, кого я встречала во время своих прогулок, вполне могли бы мне позавидовать. То есть не мне, конечно, а внешнему благополучию моей жизни. Муж очень богат, в кошельке у меня две банковские карточки, золотая и платиновая, и я понятия не имею, сколько денег на них. Я не успеваю истратить и малой толики, а счет уже пополняется.
Наверное, по этой причине я терпеть не могу глянцевые журналы, с каждой страницы которых то шепчут, то вопят разодетые дамочки: у тебя может быть все, если на это есть деньги. У меня нет ничего, кроме денег. Впрочем, деньги вовсе не мои, они принадлежат мужу, следовательно, будет правильнее сказать: у меня нет ничего. Еще совсем недавно эта фраза вызывала гнетущую тоску, и вдруг пришло безразличие…
Первые семнадцать лет моей жизни оказались ничем не примечательными, что вряд ли должно удивлять. Губернский город, обычная семья. Мама – воспитатель в детском саду, папа, кажется, работал на заводе. Говорю «кажется», потому что своего отца совсем не помню, родители развелись, когда мне еще не было и трех лет. Папа сильно пил, мама, промучившись с ним лет пятнадцать, наконец сказала: «Хватит». И папа оказался в комнате в большой коммунальной квартире, обитателей которой роднил тот же порок, и зажил там вполне счастливо. Но счастье, как известно, длится недолго, и папу через год или два обнаружили бездыханным во дворе дома с признаками отравления. Об этом мне и брату мама сообщила уже спустя несколько лет после похорон.
К величайшему удивлению бывшей супруги, отец не успел продать за бесценок принадлежавшую ему жилплощадь, мама сдавала комнату студентам, и это явилось существенной прибавкой к ее более чем скромной зарплате. Жили мы не то что бедно, а, скорее, безрадостно. Брат старше меня на двенадцать лет, и мама смертельно боялась, что он отправится проторенной отцом дорожкой. Все ее существование было пронизано этим страхом. Стоило брату чуть задержаться, она не отходила от окна, а когда он возвращался, придирчиво его оглядывала, выспрашивала и обнюхивала. В детстве я только и слышала: «Что это Борька опять задерживается… не дай бог, будет как твой папаша… друзья хорошему не научат. Связался с Васькой, а у того отец забулдыга, и сам Васька вечно с пивом во дворе пасется». В общем, жизнь была полна тревожного ожидания, я садилась на подоконник и вместе с мамой всматривалась в заросший деревьями двор, надеясь, что вот-вот покажется Борька.
Брат, конечно, тяготился неуемной маминой заботой. Сразу после школы его призвали в армию, и это обстоятельство его ничуть не расстроило, подозреваю, для него оно явилось единственной возможностью покинуть наше унылое жилище, не обижая мать. Он служил далеко от дома, навещать его не позволяли скудные средства, и мама довольствовалась редкими звонками и письмами. Служба закончилась, но брат домой не вернулся, сначала выбрав для жительства город, рядом с которым располагалась его часть. Через несколько лет переехал в другой. И маме ничего не оставалось, как ждать его писем, приходивших все реже, нечастых звонков и отпусков, не регулярных, длящихся от силы неделю, в продолжение которой брат лежал на диване, уткнувшись в телевизор. Телевизор позднее сменил ноутбук.
Мамино беспокойство это отнюдь не уменьшило, ей казалось, что брат плохо выглядит, что он болен, втайне пьет, оттого у него нет семьи и очень вероятно, что приличной работы тоже нет. По-моему, ни о чем другом она думать не могла, и эти извечные материнские страхи, которые странным образом в отношении меня никак не проявлялись, в конце концов и привели ее к болезни. Из больницы мама уже не вышла, последние ее слова были: «Вот помру, ему и вернуться будет некуда». В день маминой смерти мне исполнилось семнадцать.
Проститься с мамой брат не успел, приехал накануне похорон. Мы встретились как малознакомые люди, которых объединяло общее горе. О чем говорить, помимо маминой смерти, ни я, ни Борька не знали.
Через неделю начались экзамены в школе, брат уезжать вроде бы не торопился. Спросить его, думает ли он остаться насовсем, я не решалась, а представить свою жизнь после его отъезда затруднялась. Отнюдь не безденежье или бытовые трудности меня пугали. Домашнюю работу я давно привыкла выполнять сама и еще в школе начала подрабатывать. Но фраза «я буду совсем одна» вызывала душевный трепет.
Надо сказать, последние несколько лет брат помогал нам деньгами, но маму это, скорее, пугало, ей казалось, что получены они путем неправедным, и заверения брата, что у него свой бизнес и дела идут неплохо, не убедили. По этой причине, я думаю, она и отказывалась навестить его. Правда, брат особо и не настаивал.
В общем, я вслед за мамой по привычке переживала, а заодно гадала, что будет дальше.
Экзамены закончились, и тогда Борька впервые заговорил о нашем будущем:
– Ты в институт поступать думаешь?
– Да, – ответила я. – Мама хотела, чтобы я пошла на экономический…
– Мама… А ты сама?
– Я бы выбрала музыкально-педагогический.
– Ах, да, ты же на пианино играешь… – Борис взглянул на старенький инструмент, стоявший в углу нашей крохотной гостиной. Пианино нам продала соседка за чисто символическую цену в надежде освободить место для новой мебели, в знак благодарности я уже лет шесть мыла окна в ее квартире каждую весну и осень. – Учиться можешь где угодно, у нас тоже есть университет, и музыкально-педагогический, уверен, тоже есть.
«У нас», надо полагать, это город, где жил брат уже несколько лет. Мы заглянули в Интернет и выяснили: музпед точно есть. Вот так я узнала о предстоящем переезде.
Вскоре выяснилось, что брат уже нашел покупателей на нашу квартиру.
– Ты особо барахла не набирай, – сказал он мне в тот день, когда мы отдали новым хозяевам ключи от квартиры. – Можно все на месте купить.
В результате мы оставили все, от штор на окнах до мыльницы в ванной. Мне было очень жаль пианино, с остальным добром я простилась без особой грусти, сложив в дорожную сумку фотографии, кое-какие безделушки на память о маме и стопку одежды. Оглядев мой гардероб, Борис заявил, что тащить его с собой не стоит.
Перейти на страницу:
Источник
Семья самая обычная, и найти необходимую сумму… В общем, вы понимаете. Но мать Надежды умерла через несколько дней после похищения. Сердце не выдержало. Наверное, не следовало сообщать ей…
– В статье говорится, что об исчезновении дочери вы заявили только на третий день. Это правда?
– Правда. Я вернулся из больницы около восьми, ребенок и няня отсутствовали. Мобильный Надежды отключен. Я бросился в общежитие, где она жила, потом позвонил ее родителям. Отца дома не оказалось, я разговаривал с матерью. Женщина не знала, где ее дочь. Я поехал в милицию, по дороге мне позвонили.
– Потребовали выкуп?
– Да… огромные деньги. Разумеется, предупредили, что ребенок погибнет, если я обращусь в милицию. Я объяснил, что, чтобы собрать необходимую сумму, мне понадобится несколько дней, они мне дали сутки. О моих делах похитители были осведомлены очень хорошо.
– Но почему вы сразу не обратились в милицию?
– Они сказали, что убьют ребенка. В тот момент мне было важно вернуть дочь… любой ценой… а милиции я не особенно доверял. Наверное, мое поведение покажется вам глупым, но, когда человек оказывается в такой ситуации, редко кто способен сохранить здравый смысл. Я собрал всю сумму, собрал за несколько часов. Помогли друзья. Я рассуждал так: верну дочь, а потом разберусь… Оставил выкуп в условленном месте. Мне сказали, что ребенка я найду в центральном парке в шесть часов утра. Я ждал до двенадцати, а потом поехал в милицию. Они сделали все, что могли, но свою дочь я больше не видел. Ей было всего три года…
– Вы сказали, похитители оказались хорошо осведомлены о ваших делах…
– Возникла версия, что это кто‑то из близких. Одной из подозреваемых стала Надежда, хотя я с самого начала сомневался. Она очень привязалась к Юле, и представить, что она… Даже ради денег, ради больной матери она бы не смогла…
– А если ее тоже обманули? Если она была уверена: ребенка вам вернут живым и здоровым?
– Тогда, скорее всего, ее нет в живых и вы встретили похожую на нее девушку. За эти годы ко мне не раз приходили люди, которые якобы видели ее. Последний случай совсем недавний: два месяца назад позвонила женщина из Трубного, утверждала, что видела Надежду возле родительского дома. Конечно, я отправился к ее отцу. Он выгнал меня. Его можно понять: он, как и я, лишился своего ребенка, а тут еще эти подозрения.
– А если все‑таки…
– Это «если» не дает мне покоя уже много лет. Конечно, два месяца назад я опять пошел в полицию и даже нанял частного детектива. После похищения я продал свой бизнес, чтобы расплатиться с друзьями. Но кое‑какие деньги у меня все‑таки есть… За домом Захарова установили круглосуточное наблюдение, все звонки старика проверили… собственно, никаких подозрительных звонков и не было. Один раз вызывал врача, дважды ему звонили из собеса. Вот и все. Он живет отшельником.
– Вам пришлось продать бизнес. Что, если именно этого похитители и добивались? – сказала я. Сериков криво усмехнулся.
– Любите детективы?
– Не люблю, – отрезала я.
– Эту версию тоже рассматривали. Действительно, был человек, которому не терпелось прибрать к рукам все, что я создал.
– И он получил что хотел?
– В конечном итоге да. Но… доказать его причастность к похищению не удалось. Я ведь уже сказал: всех возможных подозреваемых тщательно проверили… никаких зацепок. У Надежды был друг, он тоже оказался под подозрением. С тем же результатом. Ни‑че‑го, – произнес он по слогам. – Моя дочь и няня исчезли бесследно. Как будто их и не было никогда.
– Вы сказали, что наняли частного детектива.
Источник

Она ничего не знала обо мне, а я о ней, хотя она была единственным близким мне человеком. Парадокс, над которым я предпочла не размышлять. У меня не имелось желания рассказывать о себе, и я допускала, что то же самое нежелание свойственно моей нечаянной подруге. О своем житье-бытье во время наших встреч я помалкивала, не из необходимости скрывать какие-то тайны, а просто не было ни тайн, ни каких-либо заметных событий в жизни. Рядом с совсем незнакомым мне человеком я могла быть кем угодно: удачливой бизнесвумен или бедной студенткой, и допускала, что Генриетта тоже не прочь пофантазировать.
Наши встречи напоминали общение в соцсетях: отсутствие общих знакомых и общих воспоминаний (я знала, что Генриетта недавно приехала в этот город, и, кажется, издалека) гарантировало анонимность, совсем как в Интернете, где человека из плоти и крови заменяет ник и фото какой-нибудь красотки.
Мы могли придумать себе любую жизнь, и втайне нас обеих влекло к этому. Меня-то уж точно. Но что-то удерживало нас от беззастенчивого вранья, конечно, вовсе не желание быть разоблаченными, прервать эту дружбу было легче легкого, и стыдиться своих фантазий вряд ли бы пришлось. Причина, скорее, крылась в другом: я чувствовала, что моя подруга глубоко несчастна, хоть и не желала признаваться в этом, и какие бы радужные картины она ни рисовала, я бы ей, наверное, не поверила. Несчастливость таилась в глубине ее красивых васильковых глаз, пряталась в едва заметных складочках возле губ… Я не знала, как должна выглядеть счастливица, но несчастье распознавала сразу. Может, и меня удерживало от фантазий опасение, что Генриетта читает в моих глазах, как я в ее, а может, боялась, что мое выдуманное счастье станет для подруги неким упреком в собственной несостоятельности. В общем, откровенности мы не желали, а от вранья воздерживались, оттого о своем прошлом и настоящем предпочитали молчать. И через месяц после знакомства я только и знала, что ее зовут Генриетта. Где она живет и как проводит время, когда мы не пьем кофе в крохотной кофейне на набережной и не бродим вдоль реки в толпе туристов, оставалось лишь гадать. Несколько раз я собиралась спросить ее об этом, но задавать вопросы друг другу, точно по молчаливому уговору, мы избегали. Почему-то я решила, что ее жизнь сродни моей. Возьмись я рассказать свою историю Генриетте, и сама бы поразилась ее абсолютной обыденности. История человека, который плывет по течению, с грустью наблюдая, как его относит все дальше и дальше от вожделенных берегов. Банальная история, лишенная возможности когда-нибудь стать другой. «Из моей жизни приличного сюжета не получится», — с тоской думала я временами. Кому интересен безвольный герой? Слабым утешением служил тот факт, что таких, как я, тысячи. А многие из тех, кого я встречала во время своих прогулок, вполне могли бы мне позавидовать. То есть не мне, конечно, а внешнему благополучию моей жизни. Муж очень богат, в кошельке у меня две банковские карточки, золотая и платиновая, и я понятия не имею, сколько денег на них. Я не успеваю истратить и малой толики, а счет уже пополняется.
Наверное, по этой причине я терпеть не могу глянцевые журналы, с каждой страницы которых то шепчут, то вопят разодетые дамочки: у тебя может быть все, если на это есть деньги. У меня нет ничего, кроме денег. Впрочем, деньги вовсе не мои, они принадлежат мужу, следовательно, будет правильнее сказать: у меня нет ничего. Еще совсем недавно эта фраза вызывала гнетущую тоску, и вдруг пришло безразличие…
Первые семнадцать лет моей жизни оказались ничем не примечательными, что вряд ли должно удивлять. Губернский город, обычная семья. Мама — воспитатель в детском саду, папа, кажется, работал на заводе. Говорю «кажется», потому что своего отца совсем не помню, родители развелись, когда мне еще не было и трех лет. Папа сильно пил, мама, промучившись с ним лет пятнадцать, наконец сказала: «Хватит». И папа оказался в комнате в большой коммунальной квартире, обитателей которой роднил тот же порок, и зажил там вполне счастливо. Но счастье, как известно, длится недолго, и папу через год или два обнаружили бездыханным во дворе дома с признаками отравления. Об этом мне и брату мама сообщила уже спустя несколько лет после похорон.
К величайшему удивлению бывшей супруги, отец не успел продать за бесценок принадлежавшую ему жилплощадь, мама сдавала комнату студентам, и это явилось существенной прибавкой к ее более чем скромной зарплате. Жили мы не то что бедно, а, скорее, безрадостно. Брат старше меня на двенадцать лет, и мама смертельно боялась, что он отправится проторенной отцом дорожкой. Все ее существование было пронизано этим страхом. Стоило брату чуть задержаться, она не отходила от окна, а когда он возвращался, придирчиво его оглядывала, выспрашивала и обнюхивала. В детстве я только и слышала: «Что это Борька опять задерживается… не дай бог, будет как твой папаша… друзья хорошему не научат. Связался с Васькой, а у того отец забулдыга, и сам Васька вечно с пивом во дворе пасется». В общем, жизнь была полна тревожного ожидания, я садилась на подоконник и вместе с мамой всматривалась в заросший деревьями двор, надеясь, что вот-вот покажется Борька.
Брат, конечно, тяготился неуемной маминой заботой. Сразу после школы его призвали в армию, и это обстоятельство его ничуть не расстроило, подозреваю, для него оно явилось единственной возможностью покинуть наше унылое жилище, не обижая мать. Он служил далеко от дома, навещать его не позволяли скудные средства, и мама довольствовалась редкими звонками и письмами. Служба закончилась, но брат домой не вернулся, сначала выбрав для жительства город, рядом с которым располагалась его часть. Через несколько лет переехал в другой. И маме ничего не оставалось, как ждать его писем, приходивших все реже, нечастых звонков и отпусков, не регулярных, длящихся от силы неделю, в продолжение которой брат лежал на диване, уткнувшись в телевизор. Телевизор позднее сменил ноутбук.
Мамино беспокойство это отнюдь не уменьшило, ей казалось, что брат плохо выглядит, что он болен, втайне пьет, оттого у него нет семьи и очень вероятно, что приличной работы тоже нет. По-моему, ни о чем другом она думать не могла, и эти извечные материнские страхи, которые странным образом в отношении меня никак не проявлялись, в конце концов и привели ее к болезни. Из больницы мама уже не вышла, последние ее слова были: «Вот помру, ему и вернуться будет некуда». В день маминой смерти мне исполнилось семнадцать.
Проститься с мамой брат не успел, приехал накануне похорон. Мы встретились как малознакомые люди, которых объединяло общее горе. О чем говорить, помимо маминой смерти, ни я, ни Борька не знали.
Через неделю начались экзамены в школе, брат уезжать вроде бы не торопился. Спросить его, думает ли он остаться насовсем, я не решалась, а представить свою жизнь после его отъезда затруднялась. Отнюдь не безденежье или бытовые трудности меня пугали. Домашнюю работу я давно привыкла выполнять сама и еще в школе начала подрабатывать. Но фраза «я буду совсем одна» вызывала душевный трепет.
Надо сказать, последние несколько лет брат помогал нам деньгами, но маму это, скорее, пугало, ей казалось, что получены они путем неправедным, и заверения брата, что у него свой бизнес и дела идут неплохо, не убедили. По этой причине, я думаю, она и отказывалась навестить его. Правда, брат особо и не настаивал.
Источник